
Олег Ильич Фирер родился в 1949 г. в семье художников. Сколько себя помнит, Олег рисовал, лепил, долбил дерево, сочинял стихи и всегда делал театральных кукол.
Со второго курса Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова участвовал в профессиональных художественных выставках.
Большую роль в его творчестве занимала еврейская тема. В перестроечные времена Фирер создал в Красноярске общество еврейской культуры «Ѓаскала» и еврейский театр «Агада».
Член Союза художников и Союза театральных деятелей бывшего СССР.
С 1991 г. живет в Израиле. Основная масса работ осталась в России – в музеях и частных коллекциях. В Израиле художник создает новые работы, а также пишет стихи, пьесы, занимается режиссурой.
Мемуары, шмемуары… Я вам что, Челлини какой-нибудь, чтобы смаковать, как кто-то сломал нос Микеланджело?.. Ну, нос, положим, я тоже ломал – себе, болезному. Жили мы тогда в Красноярске на улице Базарной, у каланчи пожарной. Рядом была колонка с водой, и вся улица с коромыслами, гремя ведрами, два раза в день отмечалась в этом пункте. Доставка воды входила в мои обязанности лет этак с десяти-одиннадцати… Дрова для печки – тоже святое дело. Уже лет шестнадцати, в последний раз, перед тем как нам подключили отопление, я колол дрова и решил ополовинить чересчур длинное полено. Положил одним концом на камень и… вдарил колуном поперек. Тут-то оно, подскочив, и врезало в мой уже начавший горбатиться нос.
Сарай был дровяным складом и моей первой мастерской, и моим первым театром. Сколько себя помню, ваял кукол из чего ни попадя. Лепил из размятого хлебного мякиша, из пластилина, обклеивая его бумагой. Шил кукольную одежду, разрезая мамины блузки. Первый спектакль «Сказку о попе и его работнике Балде» сыграл с дворовыми ребятами, соорудив в сарае сцену. Там же и скульптуры рубил из чурбаков, позже – из плавняка, притащенного с берега Енисея. Туда же отец привел первый в моей жизни выставком, и две мои скульптуры взяли на краевую выставку «50 лет советской власти». Одна из них – «Старики, таежная сказка» – сейчас в художественном музее.
Отец мой, Илья Аронович, был в ту пору директором художественной школы. Он взял преподавателем молодого скульптора из Алма-Аты Сашу Иванова. Саша считал себя учеником алма-атинского скульптора Исаака Иткинда. Рассказывал о нем образно и восторженно.
Летом родители отправили меня в Алма-Ату в гости к старшему брату отца – Якову. В «Красноярском комсомольце» готовили статью обо мне и подарили пачку фотографий моих скульптур. Я захватил их с собой.
В Алма-Ате жила и мамина старшая сестра. Мама велела навестить тетку. И вот нахожу пятиэтажный панельный дом, пробираюсь к подъезду между гигантскими заготовками, вспухшими наростами тополиных чурбаков, и – на скамейке – он.
Исаак Иткинд (1871–1969) родился в местечке Сморгонь Виленской губернии, в семье хасидского раввина. Окончил иешиву и также стал раввином.

В 1937 г. после выставки в Эрмитаже, посвященной 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина, Иткинд был арестован за шпионаж в пользу Японии и помещен в Кресты, где ему выбили зубы, сломали ребра и отбили барабанные перепонки. Вскоре после этого он был сослан в Сибирь, а позднее – в Казахстан. До 1944 г. считали, что Иткинд умер в лагерях в 1938 г., именно такая дата смерти указывалась в подписях к его скульптурам и в литературе.
Когда в 1944 г. алма-атинский художник Николай Мухин «нашел» Иткинда, то не смог ничем помочь скульптору, так как тот все еще считался «врагом народа». Лишь через 12 лет, в 1956 г. Иткинд устроился на работу в Алма-атинский государственный театр, где днем рисовал декорации, а по ночам вырезал из дерева скульптуры.
Работы Исаака Иткинда хранятся в Русском музее, Эрмитаже, музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, а также в музеях Казахстана, Франции и США.




Поэтесса Берта фон Зутнер
Объясняю, вынимаю те самые фото, Иткинд раскрывает их как карты, веером:
– О! Ви будете большим художником!
После паузы:
– Нет, я ошибся… Ви уже большой художник! Соня!!!
– Соня, вызывай такси. Мы поедем в Союз художников, и там я всем скажу, что ви большой художник. Знаете, мне там верят…
Рассказываю, что я из Сибири, там другой Союз художников. Затихает. Искоса поглядывая на окно, за которым таится Соня:
– Ви знаете, Соня хочет меня отравить. Но я не дурак. Я пью мед, растворенный в воде. Мед нейтрализует яды.
На скамье пол-литровая банка с желтоватой жидкостью. Накрывающая банку крышка надрезана, и в образовавшуюся щель то и дело ныряют мухи.
– Покажите вашу ногу, – задирает штанину на своей. – Вашей ноге 18 лет, а моей – 110 – никакой разницы… Я изобрел средство, как оживлять. Я взял муху и утопил ее в стакане воды. Потом посыпал горячим пеплом, и муха ожила. Не произвести ли нам этот эксперимент над лошадью? – глянул недоверчиво. – Но мысль, мысль-то ви уважаете?
И вот мы тронулись в его мастерскую. Иткинд предельно серьезен. Недавно ему выделили две квартиры на первом этаже, объединив в одну. Хватило места и для мастерской. От нее впечатление двоякое. Наросты тополя запечатлевают Улыбку – улыбку под метровыми носами и заглаженными наждачкой лбами. Описать это невозможно. Это вечность, впечатанная в дерево. И рядом – Ленин и какой-то колхозник...
Старец устал, ведет меня в боковую комнатку и падает на раскладушку.
– Ви знаете, я писатель. О, я смешной писатель…
Читает из древнего затертого журнала. Читает, сам смеется, переходит с русского на идиш… Еле улавливаю сюжет. Иткинд в аду… Черти его выгоняют… В раю происходит то же… Спекся окончательно. Вскидывается, сбрасывает прямо на пол сюртук. Черные брюки подтянуты до подмышек лямками, как у детей. Отстегивает лямки – брюки рушатся на сюртук. Открывается белое солдатское белье с завязками на кальсонах. Иткинд кружится, топчась по одежде, и падает на лежбище:
– Умер человек в Советском Казахстане!!!
– Кто, Исаак Яковлевич?
– Иткинд!!!
В гостях у дяди рассказываю об этой встрече. Дядина жена Сара Марковна дополняет картину. Во время войны она работала администратором в московском ТЮЗе, эвакуированном в Алма-Ату. Под лестницей, в каморке, отгороженной щитами старых афиш, она обнаружила старого нищего еврея. Уборщица Соня приютила и подкармливала его. Еврей уверял, что он известный скульптор, показывал статью Луначарского о себе. В конце концов, старика пристроили в театре бутафором. К юбилею Джамбула он вырезал для фойе театра большую скульптуру акына. Так потихоньку дело пошло. Стал иногда выставляться. Оброс поклонниками из среды молодых художников. После покупки нескольких работ для галереи им. Т. Шевченко Соня перевела его к себе домой. Там в огороде Иткинд и долбил свои изваяния…
Неожиданно Казахстан посетила делегация иностранцев. Увидев в галерее работы Иткинда, они были поражены. Этот всемирно известный скульптор, по их сведениям, погиб еще в 1938 году. Делегация изъявила желание посетить мастерскую Иткинда. Тут же Исаака Яковлевича вместе с Соней, корягами и скульптурами перевезли в эти самые хоромы. Известность накрыла Иткинда. Отыскались его работы в Московских музеях. Скульптор Коненков заявил: «Иткинд – лучший скульптор из всех, кого я знаю».
У Исаака Яковлевича в то лето я бывал еще не раз. Как-то у него нашлась бутылка красного вина. Пока Иткинд размахивал руками, вещая о своем пребывании в аду, Соня подменила вино в его стакане на клюквенный морс.
– Какое вкусное вино! Как давно я не пил вина, – запричитал Иткинд. И захмелел, захмелел убедительно: – Ви знаете, я боюсь умирать. Воров на том свете подвешивают за пальцы. Я не вор, но я так любил женщин. Так за что же меня подвесят?
Еще до встречи с Иткиндом на выставке в училище представили несколько моих листов про строителей Красноярского острога. Мой педагог, живописец Валериан Сергин, долго рассматривал их и выдал: «Какие-то носы у казаков подозрительные…» Я задумался.
Конечно, я знал о своих еврейских предках. Отец не очень-то любил разговаривать со своими детьми. Подойдет, поцелует – и по своим делам. Редкие встречи с родственниками давали больше информации. С ними отец любил вспоминать про «тетю Песю, Левочку, который умер…».
Позже, уже живя в Израиле, я получил бандероль с ксерокопиями из Красноярских архивов. Из документов следовало, что «в именном списке евреев, находящихся на жительстве по Туруханскому краю, значится семья Фирера Янкеля Лейба Хаймова (1825-1900), мещанина, сосланного из Ковенской губернии в Туруханск в 1879 году. Жена Фейга Таубе, сын Абрам Ицик». У Абрама Ицика, проживающего в Енисейске, был сын Арон Абрамович, мой дед. В 1937 г. его с братом Моисеем арестовали по доносу как японских шпионов и через месяц расстреляли во дворе Енисейской тюрьмы. Документ о реабилитации 1957 г., уже после смерти папы, хранится у меня.
С носами я определился и новую серию живописных работ представил краевому выставкому. Зависла пауза. Голос: «А что это за знак такой?» На картине было изображено еврейское кладбище с дряхлым раввином на переднем плане и магендавидом на надгробии. «Это их сионистский знак». Тишина… И голос заслуженного художника Андрея Прокопьевича Лекаренко: «Олег, подумай, в какой стране ты живешь». И неуверенный голос художника Орлова: «Я бы “Свердлова в Нарымской ссылке” предложил». Я не стал ожидать результата и, ко всеобщему облегчению, убрал работы.
С тех пор я перешел на графику и стал называть свои еврейские работы иллюстрациями к классикам: Шолом-Алейхему, Фейхтвангеру…
Выставляю «Борьбу Иакова с ангелом» как иллюстрацию к «Иосифу и его братьям» Томаса Манна. Борис Яковлевич Ряузов, живописец, академик: «А Томас Манн – гуманист?» Отвечаю: «Он коммунист». Борис Яковлевич: «Ребята, тогда я – за».
После художественного училища я работал главным художником театра кукол, ставил разовые спектакли в театрах.
Завелся у меня друг. Друг на всю жизнь. Вместе боролись с комплексами, коллекционируя девушек. Читали одни и те же книги. Толик, Анатолий Абрамович Голубицкий. Врач-психиатр, доктор медицинских наук... Это сейчас. А в году
1972-1973 будит меня Толик, весь взбудораженный. Приехал с другого берега Енисея, не пошел на работу. В город прибыл еврейский театр, труппа при Москонцерте. Толик попал на их спектакль. После – встреча с артистами на дому у Иоффе, директора музея-усадьбы Сурикова.
Короче, Толик пригласил всю труппу ко мне в мастерскую. Являются древние старцы, почти висящие на своих тростях. Среди них одна молодая – Полина Айнбиндер и нестарый парень Марк. Ветераны, оставшиеся от театра Михоэлса, взирают на мои еврейские картины, смахивают слезу: «Мы думали, еврейское искусство умрет с нами, а тут, в Сибири…» Труппу сопровождал сотрудник журнала «Советиш Геймланд» Ефим Владимирович Бейдер (поэт Хаим Бейдер). Он пригласил меня в редакцию с работами, обещал напечатать на цветной вклейке.
Я об этом подзабыл, пока не появился повод – повидать свою девушку, уехавшую в Москву учиться в Суриковском институте. Захватил папку с графикой и появился на Кирова в редакции «Советиш Геймланд». Ефим Владимирович ведет меня к главному редактору Арону Вергелису. Я молодой, нагловатый, расставляю свои листы вдоль стен, объясняя, кладу руку на плечо Арону. Тот – ничего, а Бейдер, вижу, нервничает. Вергелис: «Больше мне его работы не показывайте, печатайте все, что сочтете нужным. Видите, на стене висит Роберт Фальк, я хочу, чтобы рядом висел Олег Фирер». Меня долго уговаривать не надо. Тут же подаю ему монотипию «Встреча Иакова и Рахили». Пока редакция существовала, моя работа там висела.
Как-то врываюсь в кабинет Вергелиса… Ого! – не ко времени – по обе стороны длинного стола сидят носатые люди. До полного сходства с бухгалтерами им только нарукавников не хватает. Вергелис разряжает атмосферу: «Это наш молодой художник Олег Фирер. Вон его картина висит рядом с Фальком». Один из бухгалтеров поворачивает нос: «Ви говорите на идиш?» «На идиш я только рисую», – и покидаю помещение. За дверью бледный Бейдер: «Знаешь, кто там? Делегация коммунистической партии Израиля. Говорил с тобой Хаим Вильнер…»
Изредка я общался с Полиной Айнбиндер. Однажды она назначила встречу в метро. Зима, слякотно. Полина стоит, скукожившись. Сапоги чуть надорвались, закреплены проволокой, в руке – блеклый цветочек. Как же, еврейская певица, не до шика. Предлагает поехать к ее подруге писательнице Шире Горшман. По дороге Полина рассказывает: в молодости Шира сбежала в Палестину. Жила в коммуне. Многие основатели государства, тогда еще не очень-то важные ребята, водили с ней дружбу. Потом, поддавшись агитации, Шира уехала в СССР. В Крыму создавали еврейские колхозы. Там Шира познакомилась с молодым художником Мендлом Горшманом и перебралась к нему в Москву. (Их дочь Суламифь станет женой Иннокентия Смоктуновского.)

В 1926-28 гг. жил и работал в Белоруссии, выполнял дипломное произведение «Местечко» (6 цветных автолитографий). Еще студентом Горшман обратил на себя внимание художественной критики как зрелый и оригинальный мастер. В 1928 г. стал членом общества художников «Четыре искусства», его работы были представлены на трех выставках этого общества в Ленинграде в 1928 г. и в Москве в 1929 г. Активно работал в книжной и журнальной графике, иллюстрировал книги, вышедшие в еврейских издательствах на идиш (в частности, «Пожар» С. Маршака в переводе на идиш, М., 1925).
В 1929-30 гг. преподавал в Ленинградском художественно-техническом институте. Тогда же по командировке ОЗЕТа и Всероссийского кооперативного товарищества «Художник» вместе с группой других художников-евреев посещал еврейские колхозы Крыма, создал серию акварелей «Крымские еврейские колхозы» (1931-33). Среди оформленных М. Горшманом книг на русском языке – немало связанных с еврейской тематикой («Сын сапожника» С. Гехта, 1931; «Юлис» М. Даниэля, 1933, и др.); одна из самых известных – «Повесть о рыжем Мотэле» И. Уткина (М., 1934).
В 1934 г. М. Горшман был направлен в командировку в Еврейскую автономную область, где создал серию акварелей и рисунков «Биробиджан» (1934), которые экспонировались в Москве на выставке «Еврейская автономная область и еврейские нацрайоны в живописи и графике» (1936).
В 1937-41 гг. преподавал рисунок и гравюру в Московском художественном институте. В конце 1930-х гг. активно сотрудничал с издательством «Дер эмес» и оформил ряд книг на идише – произведения И.Л. Переца, Менделе Мойхер-Сфорима, Шолом-Алейхема.
С основанием в 1961 г. журнала «Советиш геймланд» М. Горшман стал одним из его ведущих иллюстраторов. Первая и единственная при жизни художника персональная выставка состоялась в Москве в 1966 г.

– Он был упертый реалист. Я впечатлилась Тышлером. Статью написала. А Мендл возмущается. По нему, так Тышлер рисовать не умеет. Стыдно сознаться, но теперь, когда Мендла не стало, я чувствую себя свободно. Столько у него было друзей-художников, а памятник сделать некому. Скульптор Берлин все обещает…
Перебиваю и, не очень удивляясь своей наглости:
– А давайте я сделаю.
– А давайте… – встрепенулась Шира Григорьевна. – Сейчас я чай поставлю…
Иду на кухню мыть руки, слышу громкий шепот Ширы: «А он хороший художник?» – интересуется она у Полины Айнбиндер.
Покупаю глыбу серого гранита. Куда везти, не знаю. Тормозим у первой телефонной будки. Звоню в «Советиш Геймланд» художественному редактору Соне Черняк. У нее есть знакомый скульптор Владимир Федоров. Едем к нему. Въезжаем во двор. Камень скидываем прямо на землю. Подземный гул на всю Москву. Через крыши домов видны кремлевские башни.
Теперь дело за малым: вытесать скульптуру. Рублю без модели, прямо в граните. Осколки свистят, как пули. Неделя – и надгробие, пока без шрифта, готово. Голова – в три натуры, с Иткиндовской улыбкой, рука возле лица, глубокий горельеф. Ниже – рельефом – козочка с менорой вместо рогов. Шира Григорьевна в трансе: «Мендл не улыбался. Это ему не присуще». Ладно. Еще три дня – и Мендл грустит. Пытаюсь немного подправить нос. Постукиваю слегка, без молотка, и… нос отлетает в сторону. Выбегает Володя. Советует приклеить эпоксидкой. Но нет. Удар – отваливается щека, еще удар – другая. Углубляюсь в камень… Два дня – и Шира облегченно вздыхает.
Наконец камень установлен на Рублевском кладбище. Наша дружба переходит в новую фазу.
Шира Григорьевна сетовала, что, если бы мы были нормальным народом, со своими городами и селами, то она не писала бы книги, а стала бы народной сказительницей и разъезжала бы по тем самым городам и весям. Рассказывала она сочно, мне, конечно, по-русски, но строила предложения, как в идиш. Получалось очень колоритно.
Как-то я заявился к ней с ведром глины и вылепил ее портрет, маску. Уже в Красноярске на судостроительном заводе мне отлили ее из бронзы за бутылку водки, перебросив отливку через забор прямо в снег. Уезжая в Израиль, я много чего раздарил музеям, которые раньше находили возможность покупать мои работы. И эту маску, среди прочего, отец передал в Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова.
Последний раз я видел Ширу Григорьевну в 1991 г. в Израиле. Узнав, что у нас в Холоне, в матнасе будет встреча с Иннокентием Смоктуновским, я предположил, что Шира не упустит возможности увидеть свою внучку. Смоктуновский приехал с дочерью. На концерт Шира не пошла. Мы сидели с ней в фойе, и Шира повествовала о своем житье-бытье в Ашкелоне, в хостеле. Концерт завершился. Смоктуновский вышел из зала… зять, внучка… я не стал им мешать. Потом я слышал, что Шира Григорьевна еще раз вышла замуж…
Вернемся в Красноярск 1986 года. Прохожу мимо городского выставочного зала (а он у нас тогда был расположен в помещении церкви) и встречаю искусствоведа Сашу Быкова (эта такая еврейская фамилия). Узнаю, что директор выставочного зала в декрете, и он пока ее замещает. Тут же идея: а не устроит ли он мне персональную выставку? Нет проблем. Только нужно оформить решением правления Союза художников. Получаю необходимые документы – и вперед. Оснастил церковные стены еврейской живописью, расставил еврейские скульптуры, развесил графику, в основном, еврейскую, разбавил нейтральными театральными эскизами и приглашаю экспозиционную комиссию. Народ радостно вваливается в церковь. Шок. Председатель организации Толя Золотухин, театральный художник, человек, умеющий сглаживать углы, мягко советует мне немного изменить экспозицию. На первый план вывесить театральные эскизы, а еврейские картины перенести в следующий зал.
Вначале все шло отлично. В школах новогодние каникулы, автобусы привозят зрителей со всего края, группы с заводов, техникумов…
И вдруг – облом. Ночью звонит Быков. Сообщает, что звонили из отдела культуры горисполкома, интересовались, что за контру развесил у себя Быков? Саша: «Ну, если классик литературы Шолом-Алейхем и комсомольский поэт Иосиф Уткин контра, то…» Вечером начальник отдела культуры Иванова пришла в выставочный зал. На месте была только младший научный сотрудник Кардаш. Иванова с места в карьер: «Мне кажется, что выставка подпольная. Принесите документы». Мнет папку – документы в порядке. «Вы что, не видите, что выставка носит национальный характер?» Кардаш: «У нас только что были грузины, потом – китайцы…» Иванова: «Вы что, не знаете, как относятся к евреям во всем мире?» Кардаш: «А вы не знаете, что у нас есть еврейская автономная область, Биробиджан?»
С начальством спорить бесполезно – выставку приказали закрыть. И тут началось. Евреи проснулись и с черного входа стали проникать в зал. Бегали по выставке, не особо вглядываясь в картины: «И это она закрыла? Антисемитка!» Саша возмущается: «По большому счету, мне на твою выставку наплевать, но мне как еврею в лицо лопату дерьма бросили. Надо что-то делать…» Иду в крайком партии. Начальник отдела культуры удивляется: «Олег Ильич, не может быть. Успокойтесь. Завтра выставку откроют».
Утром зал все еще закрыт. Тогда я служил в ТЮЗе главным художником. Режиссер Миша Коган там подрабатывал на полставки. Мы дружили. Будущий раввин в Дюссельдорфе, Миша дал мудрый совет: «Напиши письмо Горбачеву. Конечно, ничего не изменится, но усвоят, какое этот Фирер дерьмо. Лучше его не трогать». Отпечатываю на машинке письмо, и в конце текста: «Что это, Михаил Сергеевич, новая национальная политика партии или самодеятельность местных властей?» Понимаю, что по почте послание до адресата не дойдет. Знакомая стюардесса сдает письмо прямо в канцелярию Горбачева под расписку.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приглашают меня в управление культуры, очень вежливо приглашают. Милиционер искрит ярым оком на мои космы до плеч, на чужеродную бороду… Начальник, напротив, приветлив и толерантен. Пространно излагает, какой я замечательный художник. «Письмо Горбачеву писали?». Печально раскрывает папку. Вижу мое письмо, перепечатанное на другой машинке. «Что это, Олег Ильич?» «А вы не знаете? Я к вам первому обратился». Долгая пауза: «Вообще-то мы Иванову наказали. Больше писать не будете?» Встаю: «Если повода не будет».
Приносит мне как-то отец газету. В ней крохотная заметка: «В Москве в помещении бывшего кинотеатра “Таганский” открылось общество еврейской культуры им. Соломона Михоэлса».
Про Израиль я тогда и не думал. Мечтал о возрождении еврейской культурной жизни на нашей почве. Перестройка бьет все рекорды. Всплывает всякая антисемитская нечисть. Евреи пугаются… А тут еще лейтенант из известных органов нарисовался: «Расскажите, что там у вас с Ивановой?» «А вы не в курсе?» Отмолчался. Постращал немного обществом «Память» и откуда-то, чуть ли не из-под ногтей, добывает миниатюрный, скрученный в рулончик клочочек бумажки. На нем мелко-мелко – столбик фамилий. «Не могли бы вы познакомиться с этими людьми?» Познакомился и создал из них ядро будущего общества еврейской культуры. Приобщил к списку соратников энное количество деятелей искусства и культуры, и началось.
Наверху засуетились… Собрали в крайкоме партии директоров заводов и других видных представителей проблемной национальности. Провели работу. Стали подсылать ко мне проверенных евреев с дружескими советами: «А не рано ли? Перестройка перестройкой, а вот общество "Память"… Что, если вдруг… Не надо провоцировать… Конечно, устав и программа хорошие, но…»
«Устав и программа». О! Иду в исполком. Надо узаконить организацию. В фойе завладел центральной стеной огромный портрет капитана Чечкина (депутата чуть ли не Верховного совета) кисти моего отца. Со мной Лева Шомер, первый помощник и будущий бухгалтер нарождающегося общества еврейской культуры «Гаскала». Заведующая отделом – партийная дама по фамилии Кольба. Секретарша не пускает. Я известно как выгляжу. Да еще на Леве кипа. Вручаю свою визитку: «Член Союза художников СССР. Главный художник театра…»
Начальница доброжелательна. Выкладываем на стол папочку с документами на регистрацию. Кольба вглядывается в бумаги. На лице у нее обнаруживается шрам, который то белеет, то краснеет. Не поднимая головы, предлагает отдать документы секретарше. Сдаем под расписку.
Укрепляю группу основателей. В «Доме актера» сталкиваюсь с Лилианой Георгиевной Микаэлян, режиссером Театра музыкальной комедии. Дамой экзальтированной, яркой, бывшей балериной, внучкой католикоса всея Армении. Возмущена начавшейся суетой: «Все, записывайте меня, армянку, в еврейское общество!» Рождается идея. Срочно находим людей и создаем общество армянской культуры, немецкой, татарской… Одним словом – «дружба народов».
Хочу закончить, как и начал, – сломанным носом. В Красноярске мы выбрали раввином Рафаила Зарецкого. Знатока идиша, еврейской истории, отсидевшего в лагерях, тертого жизнью. Репатриировавшись, пытался он получить статус «Узника Сиона», но бюрократия на исторической родине та еще… И вот в очередном кабинете, отчаявшись, стал он читать зычным голосом на иврите Бялика. Вдруг из соседнего кабинета выбегает еврей в кипе с воплем: «Это ты, Фоля!!!» – обнимает Зарецкого. «Помнишь своего друга?! Вот он, мой поломанный нос. Это ты, бандит, запустил в меня табуретом. С тобой было опасно спорить…» Разумеется, вопрос о статусе «Узник Сиона» был решен моментально.














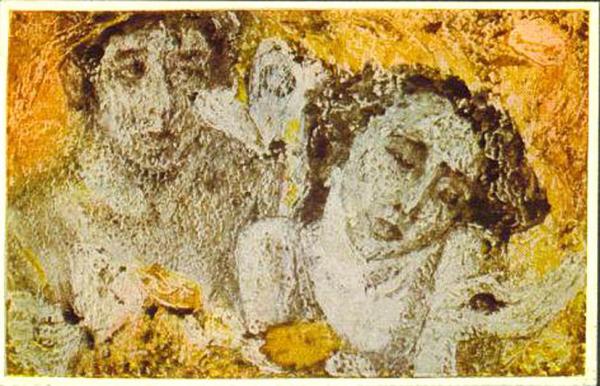
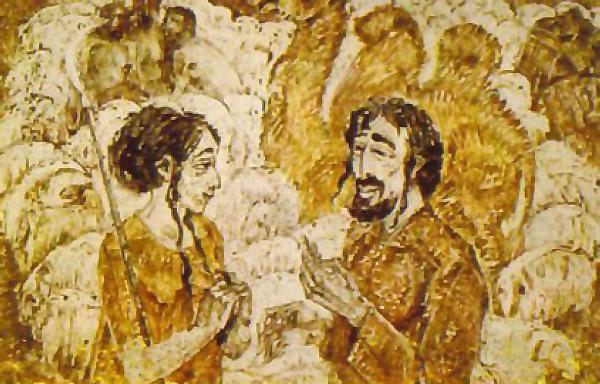

Комментарии